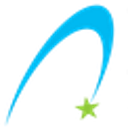Мирон ЧЕРНЕНКО
Как бы то ни было, в свое время это не пришло в голову никому из критиков: из года в год, в течение двух десятилетий, вести летопись картин, индивидуальностей, течений, направлений, школ, представленных на девятнадцати варшавских «Конфронтациях»… Здесь достаточно было бы хронологии: факты, события, имена. В том-то году кинематограф носил такое, а в том-то такое, а потом пришла мода на то, а затем ее сменило поветрие… И простая эта летопись превратилась бы не только в своеобразную историю послевоенных эволюций н революций кинематографа, но в историю общественной и художественной, идеологической и политической атмосферы вокруг экрана, историю тех надежд, прогнозов, предчувствий, восторгов и разочарований, которые сопутствовали кинематографу в эти бурные десятилетия.
А может быть, именно в этом и коренится ответ на заданные вопросы — просто-напросто каждый такой смотр фильмов мира, каждый такой мгновенный слепок с годичного кинорепертуара требует поисков некоего общего знаменателя, немедленных — не отходя от экрана — обобщений и осмыслений. Представить себе только: экран нынешних «Конфронтаций» был отдан шестнадцати фильмам из десяти стран мира — СССР и США, Италии и Польши, Франции и ФРГ, ГДР и Югославии, Венгрии и Болгарии. И в какой плоскости — географической, эстетической, идеологической — искать этот знаменатель для фильмов Антониони, Висконти, Бунюэля, Куросавы — бесспорных классиков мирового кинематографа, а с другой стороны — для картин Сергея Микаэляна и Богдана Жижича, Марты Месарош, Януша Заорского? А если добавить сюда и среднезнаменитых — Ива Буассе, Коста-Гавраса, Вернера Херцога, Франсиса Форда Копполу (даже рука не поднимается назвать этого молодого еще, но всемирно известного режиссера средне прославившимся) — уж какой тут универсальный ключ…

И все-таки, если попытаться окинуть взглядом мозаику из шестнадцати картин, показанных на экранах Варшавы, Гданьска, Катовиц, Конина, Кракова, Лодзи, Плоцка, Седлец, Тарнобжега (по самым скромным подсчетам, каждый из фильмов посмотрели триста тридцать тысяч человек, а всего, таким образом, более пяти миллионов, что представляет для Польши цифру огромную), если спросить себя, какое же впечатление останется от этих картин, скажем, у детей или внуков пяти миллионов, что придут в начале будущего века в какой-нибудь тогдашний «Иллюзион» на «ретроспективу-75», то окажется, что, несмотря на все различия, несхожести и разности, очевидные с первого взгляда, есть в этих лентах общий накал размышлений о нравственном облике человена нашего времени, о том, накие мы есть сегодня, что беспокоит нас, что тревожит.
И размышлениям этим отнюдь не препятствует временной диапазон показанных картин: начало нашего века («Дерсу Узала») сменяется началом века минувшего («Каждый за себя и бог против всех»), чтобы уйти еще дальше в историю, в восемнадцатое столетие («Лотта в Веймаре»), а затем промчаться по всей первой половине двадцатого века («Крестный отец-ll») и остановиться на годах второй мировой войны («Партита для деревянных инструментов» и «Специальное присутствие»), как не препятствует нашим раздумьям и диапазон жанровый — от «Премии», «Удочерения» или «Дюпона Ляжуа» до неудержимо развлекательных «Челюстей» и сюрреалистического фарса «Призрак свободы», действие которого поистине происходит «нигде, то есть повсюду».

И не случайно «Конфронтации-75» начались советской картинной Акиры Куросавы «Дерсу Узала» — поэтической сагой о человеке — частице природы, отнюдь не венце ее, но равном среди равных, сагой, ставшей непререкаемым эпиграфом к нынешним «Конфронтациям», в которых, вопреки их названию, впервые, кажется, фильмы не вступали друг с другом в полемику.
Напротив, представляя собой противолежащие точки зрения, несогласуемые жизненные и философские позиции, не сливаясь, не конкурируя, эти шестнадцать монологов о совести дополняли друг друга, поправляли, уточняли в своем нравственном ригоризме, в своем обращении к главному, что есть, что должно быть, что может быть в человеке… И если порой и прорывалась в них полемическая нота, то обращалась она к событиям, фактам и представлениям, лежащим за пределами экрана: к ложному, предвзятому представлению о человеке, о его возможностях, о его будущем…
Такой была главная неожиданность «Конфронтаций» — картина западногерманского режиссера Вернера Херцога «Каждый за себя и бог против всех», подлинная история человека по имени Каспар Хаузер, неразрешенная загадка двадцатилетнего юноши, от самого рождения томившегося в подвале, вдали от людей, выпущенного на свободу, а затем убитого теми же неизвестными лицами… Но режиссера интересует отнюдь не тайна происхождения — Вернер Херцог пытается прорваться к тайне психологической, философской, общечеловеческой. Ибо сколько раз уж экран пытался убедить зрителя в изначальной человеческой подлости, звериной жестокости. А этот немецкий Маугли двадцатых годов прошлого века, не обремененный пороками цивилизации, оказывается воплощением порядочности, доброты, благорасположения, да такого, что именно оно и становится одной из причин его трагической гибели — полная неспособность к самозащите, невозможность поверить в зло, недоброжелательство, цинизм.

И пусть в других фильмах «Конфронтаций» эта полемическая нота звучит не столь откровенно — фильмы эти заняты собственными проблемами, конкретными обстоятельствами человеческой деятельности и не отвлекаются от конкретности, — но именно эта несхожесть позволяет обнаруживать в картинах, казалось бы, описанных вдоль и поперек, грани неожиданные н непредвиденные.
В самом деле, что еще можно было бы сказать о нашей «Премии»? А вот здесь, рядом с фильмами, родственными ей по духу, по герою, кто-то из критиков назвал Потапова — «гомо социалистикус» (человек социалистический). В характере Потапова просматривалась на этот раз его внутренняя драма, отчаянное единоборство с самим собой, с консерватизмом собственного мышления, с нравственным иждивенчеством. Больше того, именно здесь, на «Конфронтациях», ощущалась генетическая связь между героями фильмов из социалистических стран, сколь бы непохожими ни были обстоятельства, мотивы поведения, индивидуальные и национальные их черты.
Потапов и герой болгарского фильма «Крестьянин на велосипеде» — уже не сельский житель, но еще не горожанин, пытающийся вернуться к себе, прежнему, невозвратимому, проигрывающий вроде бы эту борьбу и все же остающийся в выигрыше. Тот же Потапов и героиня венгерского «Удочерения». Марта Месарош уже давно ведет социологическое исследование современной венгерки — независимой и внутренне свободной, интеллигентной и «хорошо устроенной», но расплачивающейся за все это самой высокой ценой, которую только может платить женщина, — одиночеством. Эта картина вскоре выйдет на наши экраны, и если я вспоминаю о ней сейчас, то для того только, чтобы сравнить высокий стоицизм ее героини, его глубокую нравственную основу с такой же стоической борьбой героя с самим собой, а не только с гигантской акулой-людоедом в кассовом киночемпионе всех времен и народов — картине Стивена Спилберга «Челюсти», рассказывающей все ту же, клишируемую уже восемь десятилетий историю простого американского парня, который может все, который ничего не боится, а если и боится, то способен на такое, что и страх и причина его исчезнут раз и навсегда, словно их и не было вовсе…
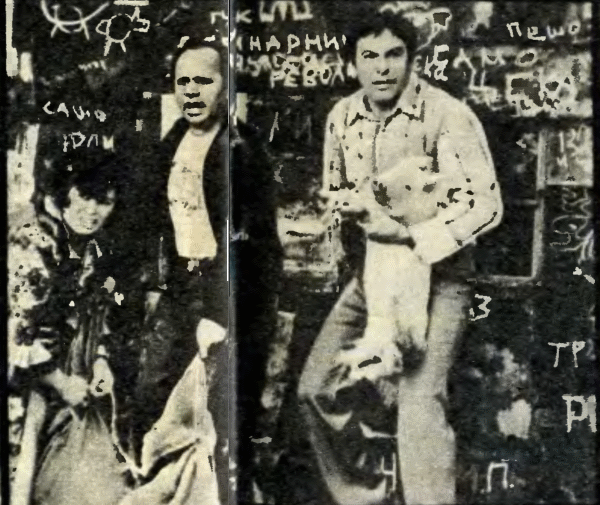
Я отнюдь не иронизирую. Картина Спилберга — просто еще одно свидетельство того, что экран отворачивается от жестокости и цинизма, что даже здесь, в этом гибриде вестерна и фильма ужасов, где вовсю хлещет кровь и вздрагивает потрясенный зритель (я тоже вздрагивал и тоже потрясался), побеждает благородство вестерна, побеждает герой возвышенный, я сказал бы даже — рыцарский, если бы крепкоскулый этот победитель акулы не был столь однообразен, бледен во всем, что не касается его непосредственных полицейских обязанностей. О нравственных переменах западного экрана свидетельствует и вторая часть «Крестного отца», историко-социологическое предисловие к части первой, где Коппола с грустью и ностальгией анализирует крах патриархальных нравственных норм, которые привезли с собой в Америку провинциальные сицилийские мафиозо начала века.
Фильм Копполы не единственный монолог «от противного». Самым эффектным из фильмов этой категории была последняя работа Антониони «Профессия: репортер», история человека, попытавшегося уйти от себя самого, сменить кожу, обмануть судьбу. Я не отношусь к числу ее поклонников, картина кажется мне манерной, претенциозной, а в нравственном своем посыле и просто не новой, но дело не в личном мнении, а в том, что один из крупнейших мэтров мирового кино в своем разговоре о душе человеческой пытается выйти из замкнутого мира на широкий простор политических, социальных, идеологических обусловленностей и мотиваций.
Наверно, картина нынешних «Конфронтаций», открывающаяся в этой корреспонденции, неполна. Я не сказал ни слова о таких серьезных картинах «хозяев поля», как «Приговоренный» Анджея Тшоса-Раставецкого и «Партита для деревянных инструментов» Януша Заорского, фильмах очень важных для нынешнего польского кино и открывающих в нем новые перспективы. Но об этом лучше говорить в общем контексте национальной кинематографии. Я не сказал о последней работе Лукино Висконти. За пределами статьи остались две французские политические драмы — «Дюпон Ляжуа» и «Специальное присутствие». Но панорама возможностей кинематографа — а чем же иным являются ежегодные польские «Конфронтации» — складывается ныне именно так, а не иначе. И то, что внуки и дети нынешних зрителей «Конфронтаций» увидят когда-нибудь на экране своего «Иллюзиона» портрет человеческой совести образца 1975 года, коллективный портрет из шестнадцати разноязычных монологов о самом главном — о том, какие мы есть сегодня, как мы сами себя себе представляем — расскажет им многое о наших днях. А, может быть, и побудит кого-нибудь из них написать историю сорока пяти (к тому времени) «Конфронтаций»…